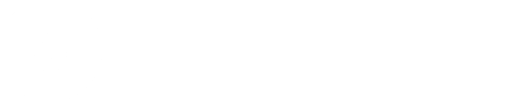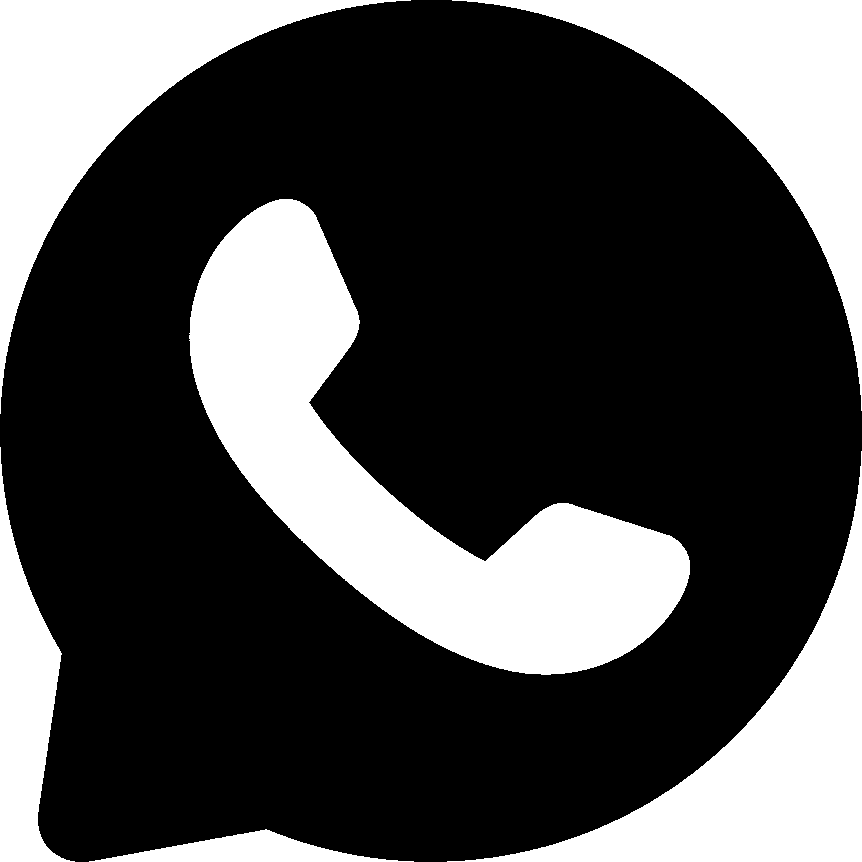Реверсивная синаллагма в двусторонней реституции
 В статье автором поставлен вопрос о допустимости применения к двусторонней реституции положений о синаллагме. Автор описывает общую характеристику синаллагмы, а также подробно разбирает выделяемые в доктрине аспекты синаллагмы. В заключении автор приходит к выводу, что генетический аспект синаллагмы не находит свое проявление в двусторонней реституции. Вместе с тем функциональный и кондициональный аспекты синаллагмы применимы к двусторонней реституции, исходя из того, что реституция не порождает принципиально новых прав и обязанностей, а имеет целью лишь возврат предоставлений, осуществлённых по договору. В связи с этим взаимная связь, имевшая место между договорными обязательствами, должна распространяться и на обязательства по приведению сторон в первоначальное положение.
В статье автором поставлен вопрос о допустимости применения к двусторонней реституции положений о синаллагме. Автор описывает общую характеристику синаллагмы, а также подробно разбирает выделяемые в доктрине аспекты синаллагмы. В заключении автор приходит к выводу, что генетический аспект синаллагмы не находит свое проявление в двусторонней реституции. Вместе с тем функциональный и кондициональный аспекты синаллагмы применимы к двусторонней реституции, исходя из того, что реституция не порождает принципиально новых прав и обязанностей, а имеет целью лишь возврат предоставлений, осуществлённых по договору. В связи с этим взаимная связь, имевшая место между договорными обязательствами, должна распространяться и на обязательства по приведению сторон в первоначальное положение.
Автором описаны основные модели возврата полученного в рамках исполнения судебного акта о двусторонней реституции (условное решение, условный встречный иск, условное возражение), а также предпринята попытка предложить свой взгляд на решение проблемы «первого шага» в двусторонней реституции. Автором также подробно исследована основная судебная практика по данному вопросу и приведены собственные выводы и рекомендации на основании её анализа.