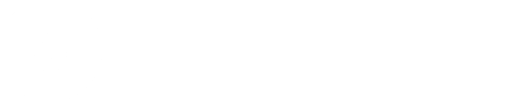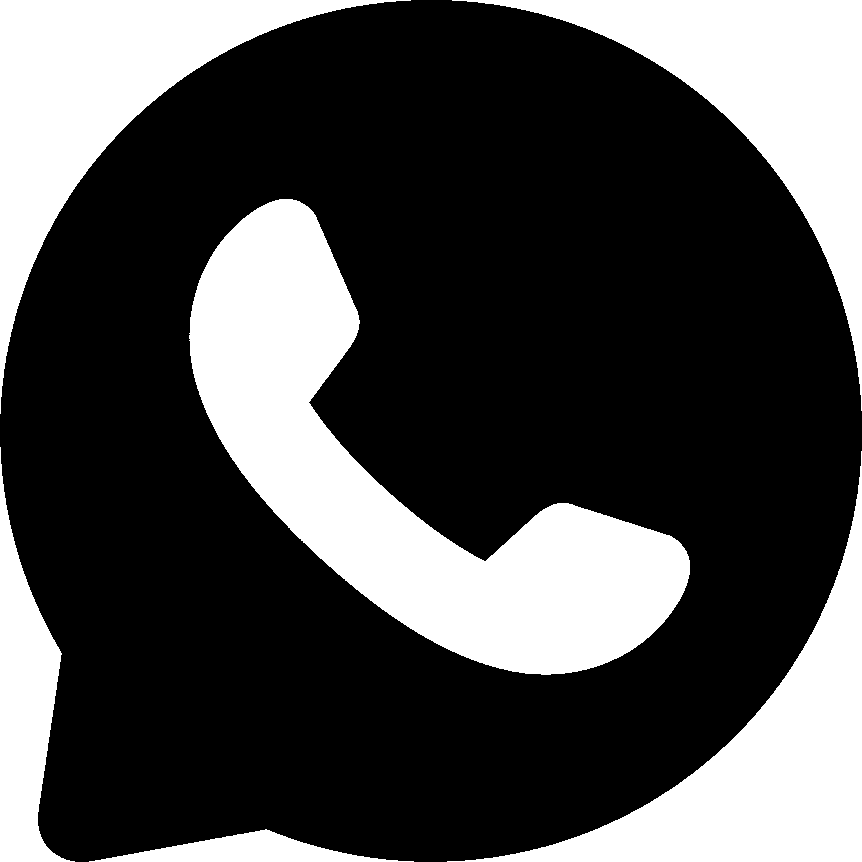Имущественные аресты в уголовном деле: правовая природа и регулирование
 Арест в рамках уголовного дела производится в порядке ст. 115 УПК, которая устанавливает цель применения данной меря процессуального принуждения – обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества. Суд может арестовать имущество подозреваемого, обвиняемого или третьих лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.
Арест в рамках уголовного дела производится в порядке ст. 115 УПК, которая устанавливает цель применения данной меря процессуального принуждения – обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества. Суд может арестовать имущество подозреваемого, обвиняемого или третьих лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.
Автор предлагает классификацию в зависимости от содержания ограничений, налагаемых на собственника имущества, и правовых последствий, которые влечёт соответствующий арест. Таким образом, он делит аресты на три вида:
- вещный - арест в пользу собственника по иску о виндикации;
- обязательственный - арест в пользу кредитора по обязательству;
- арест корпоративных активов - совершается в развитие обязательственного ареста.
Анализируя положения ст. 115 УПК во взаимосвязи с представленной классификацией, автор приходит к выводу, что в норме процессуального кодекса имеется в виду лишь арест второго вида. В то время как аресты первого и третьего видов применяются следователями по наитию, в отсутствие чёткой регламентации даже в тексте ГК. О том, как решать проблему – читайте в статье.